Андрей Антонов. 10 июля 2021 — 25 июля 2021
Андрей Антонов. Куратор - Андрей Андреев
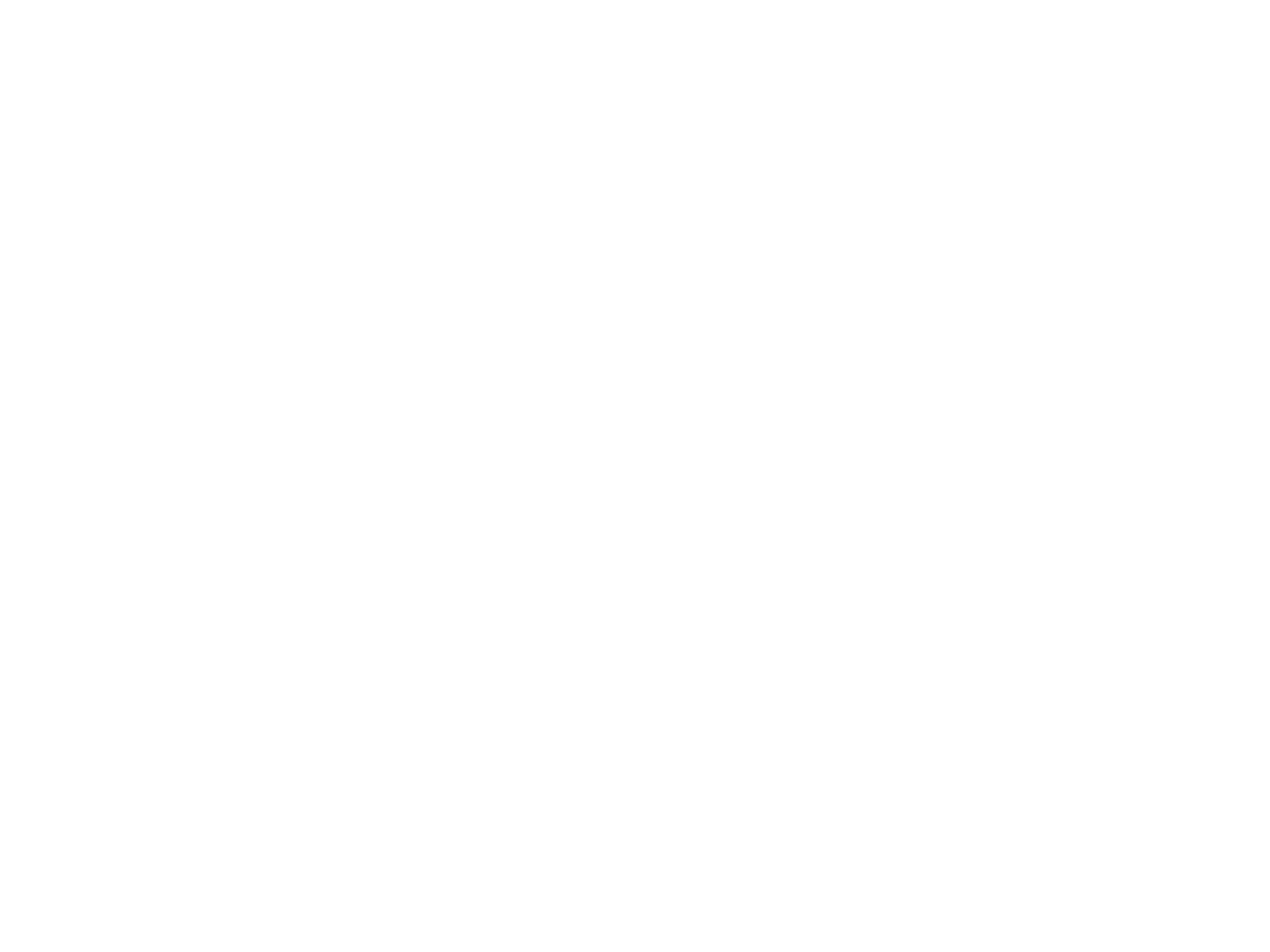
В своем докладе «Что такое автор», прочитанном на заседании Французского философского общества в 1969 году, Мишель Фуко в разговоре о наследии Фридриха Ницше резонно отметил: «Когда, к примеру, принимаются за публикацию произведений Ницше,— где нужно остановиться? Конечно же, нужно публиковать все, но что означает это “все”?
Все, что Ницше опубликовал сам, — это понятно. Черновики его произведений? Несомненно. Наброски афоризмов? Да. Но также и вычеркнутое или приписанное на полях? Да. Но когда внутри блокнота, заполненного афоризмами, находят справку, запись о свидании, или адрес, или счет из прачечной, — произведение это или не произведение? Но почему бы и нет? И так до бесконечности...»
Автор, эта нерушимая творческая единица, узнаваемая из тысячи других, является источником не просто одного или сотни произведений, но чего-то большего. Чего именно?
Говорят, что скульптура начинается с рисунка. Скульптор видит плоскость белого листа как трехмерное пространство, поэтому его набросок всегда словно пульсирует и тянется к горизонту. Карандаш вторит линиям форм, их изгибам, углублениям и фактуре. Светотень моделирует объем, но даже в линейных рисунках видны контуры будущих трехмерных объектов. Так, например, происходит с ломаными, но строгими и основательными, набросками мужского торса, в которых легко угадываются будущие скульптуры Антонова 1990, 2000 и 2002 годов. «Торс» 1990 года, не лишенный экспрессии и прямого реалистического намека на распятие, в своих вариациях 2000 года становится более условным и гладким, стремясь к формам простых идеальных фигур, чтобы уже в 2002 году начать рассыпаться, будучи изрытым патиной и неровными язвами. В конце концов он перерождается в кубистический коллаж, в котором некоторая угловатость роботизированного тела отвечает машинной и технологической современности. Фрагмент этого распятия, описав временную дугу, вторит не только изменениям в личной практике художника, но эпохе и темам модернистского искусства — по сути, это настоящая одиссея от плотного реалистического этюда к кубистической плоскостной скульптуре Пикассо, от очищения формы у Бранкузи к равновесию и коллажности работ Барбары Хепуорт. По сути, история личного творчества Андрея Антонова повторяет временную петлю истории скульптуры 20 столетия, что заставляет задаться вопросом, как скульптор, работая в условиях неубывающей тотальной пропаганды, угадывал, подсматривал, находил сам, некоторую линию преемственности развития скульптуры? Так форма, бороздя десятелетия XX века, распадалась и снова обретала свои четкие контуры в самобытном творчестве выпускника классической художественной школы, который в суровые времена диктатуры и нехватки пытался искать собственный голос и стиль.
Но вернемся к нашим заметкам на полях — бумажкам, листочкам, значимым и не очень наброскам, которые многие могут счесть за необязательные черновики, а порой и за мусор, оставшийся как прелюдия к якобы «большому» проекту скульптуры или монумента. Можем ли мы назвать их следом или истоком произведения, или точнее: кто определяет иерархию значимости magnum opus и мимолетной мысли или фантазии, зародившихся в уме автора? Давайте попробуем пойти дальше и поразмыслить над историей искусства как большим произведением человечества, которая не просто на полях оставила тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на ее страницы, но скорее не имеет полей вовсе, представляя собой узел, сумму всех переплетенных судеб и следов, оставленных в форме графического листа или большого монумента.
Будучи брошенными на полях большой советской истории, ищущие свой голос или вслушивающиеся в музыку зарубежья независимые советские художники сами, как заметки на полях идеологии, по факту, по форме — оставались плотно вписаны в историю мирового искусства.
Творчество отдельного автора здесь, с тысячами набросков, десятками скульптур заказанных и сотнями — сделанных для себя, воплотившихся зачастую лишь в проектах, а также реализованных в малой форме в порыве архаичной и общей для всех народов мифологической фантазии, так вот творчество отдельного автора здесь, с одной стороны, лишь капля в океане мировой истории, с другой — ведь только эти капли этот океан и составляют. Так где тот исток произведения, явленного в покрытой патиной бронзе или очищенного от всего лишнего в мраморе? И где конец того произведения, которое стоит на площади и подставляет свои разгоряченные бока яркому солнцу, умывается косым дождем, нагревается от прикосновения теплых рук прохожих, участвует в любительских фотосессиях и видит ежедневные восходы и закаты уже после того, как его создатель ушел из жизни?
Выходит, что у конкретного произведения нет ни истока, ни конца, потому что плотная вписанность в саму ткань жизни и истории не позволяет поставить точку в его существовании, всегда только запятую.
Наброски и рисунки — лишь след карандашной линии мастера, дело которого — производство самой жизни. И произведения Антонова зачастую говорят об этом с нескрываемой буквальностью и страстью.
Найдя для этого подходящую и древнюю, как мир, метафору — дородное или стройное сексуализированное женское тело, — Антонов концентрируется на изображении чувственной женщины, которая наслаждается сладкой истомой бытия: вот она умиротворенно сидит в ожидании, лежит, мечтательно подпирая рукой голову, или чувственно натягивает чулок, заигрывая со взглядом зрителя. Художник с любовью и нежностью вписывает это тело как источник всякой жизни в пару с мужским или в триаду с мужским и детским. От умиротворения и нежности до жестокой истомы наслаждения и борьбы здесь — один шаг, ведь жизнь в работах Антонова неизменно связана с той болью, которая дает понять, что если ты что-то чувствуешь, значит ты живой. Так отчасти трагичные и жестокие сюжеты — «Похищение Европы» или «Минотавр и Нимфа», в которых нежность и беззащитность женского тела сталкивается с животным желанием и грубостью тела мужского, — сопровождены чувственным, на уровне взгляда и изгибов, намеком на предвосхищение будущего рождения: будь то новой жизни или нового произведения, для создания которых нужно либо пройти через муки материнства, либо подчинить себе пластический материал.
Сексуализированное слияние, вплоть до неразличения, двух тел напоминает не то борьбу, не то противостояние двух врагов. Так мужское тело, что в схватке, что в любовной неге, показано навостренным и угловатым («Минотавр и Нимфа» (1997), «Бегущий воин» (1998)). Пухлое тело роженицы, подернутое тяжестью и мукой, все равно источает покой («Плодородие» (2005)). Таким образом, женское и мужское, темное и светлое, боль и сладость, поле и граница, произведение и исток — две вечные амбивалентные составляющие самой жизни, у которой нет ни конца, ни края.
Человеческое тело и таинство его рождения как источник жизни — вот где, на мой взгляд, сердце творчества Андрея Антонова. Человеческие судьбы, переплетаясь между собой и мягко перетекая друг в друга, позволяют задержаться в истории даже тем произведениям, которых уже нет — из уст в уста, из книги в книгу мы передаем описания древнегреческой живописи или храмов Пальмиры, и пока останется хоть одно свидетельство об их существовании или хоть один след в памяти, значит они живут, значит у них нет временных границ и рамок, ведь у жизни, о которой повествует автор через свои произведения, нет ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца. «И так до бесконечности...»
Анастасия Хаустова
Автор, эта нерушимая творческая единица, узнаваемая из тысячи других, является источником не просто одного или сотни произведений, но чего-то большего. Чего именно?
Говорят, что скульптура начинается с рисунка. Скульптор видит плоскость белого листа как трехмерное пространство, поэтому его набросок всегда словно пульсирует и тянется к горизонту. Карандаш вторит линиям форм, их изгибам, углублениям и фактуре. Светотень моделирует объем, но даже в линейных рисунках видны контуры будущих трехмерных объектов. Так, например, происходит с ломаными, но строгими и основательными, набросками мужского торса, в которых легко угадываются будущие скульптуры Антонова 1990, 2000 и 2002 годов. «Торс» 1990 года, не лишенный экспрессии и прямого реалистического намека на распятие, в своих вариациях 2000 года становится более условным и гладким, стремясь к формам простых идеальных фигур, чтобы уже в 2002 году начать рассыпаться, будучи изрытым патиной и неровными язвами. В конце концов он перерождается в кубистический коллаж, в котором некоторая угловатость роботизированного тела отвечает машинной и технологической современности. Фрагмент этого распятия, описав временную дугу, вторит не только изменениям в личной практике художника, но эпохе и темам модернистского искусства — по сути, это настоящая одиссея от плотного реалистического этюда к кубистической плоскостной скульптуре Пикассо, от очищения формы у Бранкузи к равновесию и коллажности работ Барбары Хепуорт. По сути, история личного творчества Андрея Антонова повторяет временную петлю истории скульптуры 20 столетия, что заставляет задаться вопросом, как скульптор, работая в условиях неубывающей тотальной пропаганды, угадывал, подсматривал, находил сам, некоторую линию преемственности развития скульптуры? Так форма, бороздя десятелетия XX века, распадалась и снова обретала свои четкие контуры в самобытном творчестве выпускника классической художественной школы, который в суровые времена диктатуры и нехватки пытался искать собственный голос и стиль.
Но вернемся к нашим заметкам на полях — бумажкам, листочкам, значимым и не очень наброскам, которые многие могут счесть за необязательные черновики, а порой и за мусор, оставшийся как прелюдия к якобы «большому» проекту скульптуры или монумента. Можем ли мы назвать их следом или истоком произведения, или точнее: кто определяет иерархию значимости magnum opus и мимолетной мысли или фантазии, зародившихся в уме автора? Давайте попробуем пойти дальше и поразмыслить над историей искусства как большим произведением человечества, которая не просто на полях оставила тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на ее страницы, но скорее не имеет полей вовсе, представляя собой узел, сумму всех переплетенных судеб и следов, оставленных в форме графического листа или большого монумента.
Будучи брошенными на полях большой советской истории, ищущие свой голос или вслушивающиеся в музыку зарубежья независимые советские художники сами, как заметки на полях идеологии, по факту, по форме — оставались плотно вписаны в историю мирового искусства.
Творчество отдельного автора здесь, с тысячами набросков, десятками скульптур заказанных и сотнями — сделанных для себя, воплотившихся зачастую лишь в проектах, а также реализованных в малой форме в порыве архаичной и общей для всех народов мифологической фантазии, так вот творчество отдельного автора здесь, с одной стороны, лишь капля в океане мировой истории, с другой — ведь только эти капли этот океан и составляют. Так где тот исток произведения, явленного в покрытой патиной бронзе или очищенного от всего лишнего в мраморе? И где конец того произведения, которое стоит на площади и подставляет свои разгоряченные бока яркому солнцу, умывается косым дождем, нагревается от прикосновения теплых рук прохожих, участвует в любительских фотосессиях и видит ежедневные восходы и закаты уже после того, как его создатель ушел из жизни?
Выходит, что у конкретного произведения нет ни истока, ни конца, потому что плотная вписанность в саму ткань жизни и истории не позволяет поставить точку в его существовании, всегда только запятую.
Наброски и рисунки — лишь след карандашной линии мастера, дело которого — производство самой жизни. И произведения Антонова зачастую говорят об этом с нескрываемой буквальностью и страстью.
Найдя для этого подходящую и древнюю, как мир, метафору — дородное или стройное сексуализированное женское тело, — Антонов концентрируется на изображении чувственной женщины, которая наслаждается сладкой истомой бытия: вот она умиротворенно сидит в ожидании, лежит, мечтательно подпирая рукой голову, или чувственно натягивает чулок, заигрывая со взглядом зрителя. Художник с любовью и нежностью вписывает это тело как источник всякой жизни в пару с мужским или в триаду с мужским и детским. От умиротворения и нежности до жестокой истомы наслаждения и борьбы здесь — один шаг, ведь жизнь в работах Антонова неизменно связана с той болью, которая дает понять, что если ты что-то чувствуешь, значит ты живой. Так отчасти трагичные и жестокие сюжеты — «Похищение Европы» или «Минотавр и Нимфа», в которых нежность и беззащитность женского тела сталкивается с животным желанием и грубостью тела мужского, — сопровождены чувственным, на уровне взгляда и изгибов, намеком на предвосхищение будущего рождения: будь то новой жизни или нового произведения, для создания которых нужно либо пройти через муки материнства, либо подчинить себе пластический материал.
Сексуализированное слияние, вплоть до неразличения, двух тел напоминает не то борьбу, не то противостояние двух врагов. Так мужское тело, что в схватке, что в любовной неге, показано навостренным и угловатым («Минотавр и Нимфа» (1997), «Бегущий воин» (1998)). Пухлое тело роженицы, подернутое тяжестью и мукой, все равно источает покой («Плодородие» (2005)). Таким образом, женское и мужское, темное и светлое, боль и сладость, поле и граница, произведение и исток — две вечные амбивалентные составляющие самой жизни, у которой нет ни конца, ни края.
Человеческое тело и таинство его рождения как источник жизни — вот где, на мой взгляд, сердце творчества Андрея Антонова. Человеческие судьбы, переплетаясь между собой и мягко перетекая друг в друга, позволяют задержаться в истории даже тем произведениям, которых уже нет — из уст в уста, из книги в книгу мы передаем описания древнегреческой живописи или храмов Пальмиры, и пока останется хоть одно свидетельство об их существовании или хоть один след в памяти, значит они живут, значит у них нет временных границ и рамок, ведь у жизни, о которой повествует автор через свои произведения, нет ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца. «И так до бесконечности...»
Анастасия Хаустова